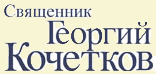Семинар «Русская катастрофа ХХ века и пути преодоления ее последствий» стал очередным в серии конференций и встреч, организованных Преображенским братством, чтобы поддерживать конструктивную общественную дискуссию о прошлом и будущем России.
Участники семинара сошлись на том, что общение в добре, установка на созидание –это то, что доступно каждому человеку, то, что способно побеждать общую бескачественность жизни, внутреннюю раздвоенность и страх. Можно лишь радоваться тому, что в последнее время то там, то здесь возникают стихийные движения людей, стремящихся просто помогать другим, оставаясь при этом «невидимками». О.А. Седакова назвала это «бунтом добра».
Сегодня мы публикуем фрагменты двух выступлений, прозвучавших в ходе семинара.
Ольга Седакова: Я хотела бы начать с того, с какой нормой мы сравниваем феномен постсоветского и советского человека, когда говорим об антропологической катастрофе, то есть о крушении некоей нормы. Очень важно иметь в уме какую-то конкретную норму – не отвлеченный идеал, потому что все люди представляют собой отступление от такого идеала, а какую-то «докатастрофическую» или «внекатастрофическую» реальность. Например, можно как из нормы исходить из российского дореволюционного человека. Но кто и что о нем теперь знает? В этом отношении мои ровесники – счастливое поколение. Мы последними имели возможность вживую видеть дореволюционных людей, поколение наших бабушек и дедушек. Мое внимание на это обратил – еще в студенческие годы – Борис Андреевич Успенский. Он как-то сказал мне: «Оля, будьте внимательны: вы последние, кто их видит, – стариков, которые успели повзрослеть до революции». Эти люди, которых революция застала совсем юными, на всю свою жизнь остались другими. Другими, чем все вокруг. И сравнение с ними многое скажет. Что же изменилось? чем эти люди отличались от своих детей и последующих потомков? Это стоит обдумать. Первое, что бросалось в глаза: они были несопоставимо спокойнее других. «Совсем советские» казались рядом с ними какими-то невротиками.
Другая возможность – сравнивать «нашего» человека с его же современником с наиболее близким нам складом, т.е. с человеком, воспитанным той же христианской цивилизацией, – с европейцем, американцем. Здесь тоже очень многое становится видно. В первую очередь, я бы сказала, неприветливость нашего. И как за эту неприветливость держатся, считая улыбку и учтивость «фальшивыми» и «притворными».
Иначе говоря: чтобы понять советский и постсоветский синдром, нужно выйти за его пределы. Почему наши исследователи не могут его уловить? Они сами внутри, и потому не видят многого. Но то, что не очень заметно для нас, хорошо видно со стороны. «Русские (всех, кто отсюда, они называют русскими) с их цинизмом и фатализмом...» – вот фраза, которую в небольших вариациях я читала в итальянских, французских, английских газетах. Вот черты, отмеченные в постсоветском человеке «посторонним» взглядом. Цинизм и фатализм.
Оба эти свойства характерны для несвободного человека. О фатализме я не буду сейчас говорить. Цинизм, мне кажется, важнее. Одна сторона этого цинизма: все хорошее не то чтобы поставлено под подозрение, но заведомо считается видимостью, притворством, «а на самом деле...». Во всем и во всех предполагаются какие-нибудь скрытые недостойные свойства и мотивы, в каждой ситуации выискиваются некие «скрытые механизмы». Высказываются невероятные паранойяльные подозрения – и еще бы, это отношение «бдительности» и «разоблачений» внушалось в течение десятилетий («Будьте бдительны! Враг не дремлет!»). Другая сторона этого цинизма – это позволение себе переступать нормы, которые, вообще говоря, нельзя переступать. Человек знает, что это нехорошо, нельзя. Но если нужно... тогда можно. «И все так делают», убежден циник.
Эти два свойства наших современников, соотечественников – цинизм и фатализм – поражают мир. Они проявляются в каждой самой простой реплике. То, что ужасает или возмущает всех, для циника – в порядке вещей. Избавиться от цинизма (которого наш человек в себе, как правило, не различает) почти невозможно – это как вернуть утраченную невинность. Конечно, эти свойства выработаны семидесятилетней воспитательной системой, которая называлась у нас государством. Кроме воспитания отдельного гражданина, из поколения в поколение производилась селекция: все те, кто более других склонен к честности, достоинству, самостоятельности, в ком действует императив личного достоинства, разным образом исключались из общественной жизни, да и просто из жизни.
Но у «воспитательной системы» кроме кнута (центральным пунктом «воспитания» и «перевоспитания» был, как известно, лагерь) был еще и пряник: миф коммунизма. Позавчера я смотрела «Светлый путь» с Любовью Орловой. Вот лучшее выражение советской сказки. Это как пресловутая «американская мечта», но, пожалуй, еще краше. И советские люди, наше старшее поколение, они ведь на самом деле жили этой сказкой, которая манипулирует как раз не самыми низкими, а наоборот, хорошими человеческими свойствами. «Мы вместе, мы всего можем достичь, у нас самый ничтожный человек будет наверху»... Одним словом, сказка сбывается наяву, а сказка – хороший жанр. Это жанр желаний человеческого сердца, добрых желаний: чтобы все в мире исправилось, убогий стал великим и т.п. Каким-то краем сказка совпадает с христианской надеждой: последний становится первым, «за столом никто у нас не лишний». Интересно, что эта блистательно воплощенная в советском кино сказка абсолютно не предписывалась к исполнению. Ведь если посмотреть на героев советской мечты, то это все люди смелые, открытые, простые. Конечно, зритель понимал, что ему так себя вести не следует: он быстро узнает, чем такое заканчивается. Но, тем не менее, идеал был таким: мы простые, открытые, нам все моря по колено. На нашем пути только ничтожные и мелкие отрицательные герои – например, бюрократ, который не понимает, что надо работать на ста станках сразу. Но добро всегда, и очень легко побеждает.
Так вот, постсоветский и даже позднесоветский человек – это человек, у которого отняли сказку. Он в неё больше не верит. И позднесоветское общество было уже совершенно циническим обществом, а в постсоветское время всеобщий цинизм просто вышел наружу. У этого цинизма есть своя догматическая основа, о которой мне хотелось бы когда-нибудь написать, своя антропология: антропология КГБ (как бы эти «органы» ни назывались), идея человека, из которой исходит тайная полиция. Она прямо «теоретически» нигде не записана, но её можно извлечь из практики работы с человеком. Она состоит в том, что человек абсолютно несамостоятелен: если он что-то делает, то его подкупили или агитировали. Он сам ничего не решает. Он или чей-то агент, или подкуплен, или зомбирован. У него как бы нет своего внутреннего мира, откуда происходит решение. С одной стороны, это существо пустое, с ним можно делать что угодно. Но с другой стороны, это существо исходно плохое. Они («органы») хорошо знают, что человек слаб, пуглив и корыстен. Эта дьявольская машина умеет работать со слабостями человека, она знает, на какие кнопки нажимать. Как запугать, как подкупить, как «убедить», как «подсказать». Она использует и совсем не плохие свойства – например, ответственность за других (за семью, за работу, за ближних). И редко, редко, но все же эта система порой сталкивается со своей неэффективностью. Константин фон Эггерт, прекрасный журналист, где-то заметил, что циническое суждение в 99% случаев оказывается право – и промахивается в одном. Но этот-то один процент – исторический! Так эта антропология, которая, казалось бы, действует безотказно (ведь у всякого человека есть слабые точки), вдруг наталкивается на такого, кто не позволит на эти «кнопки» нажимать. И тут те, кто привык «справляться» с людьми, не знают, как с этим быть, они просто перестают понимать: почему? Почему академик Сахаров не повелся, как все? Их антропология такого случая не предполагает. Так что это не просто откровенная клевета, когда теперь говорят, что люди вышли на улицу, потому что им за это американский Госдеп заплатил, – это единственно возможное для кого-то объяснение. Мотивацией может быть только корысть. Лозунги, с которыми идут люди, – «не оскорбляйте мое достоинство!» – они просто не могут прочесть. Понятия личного достоинства в этой антропологии нет. Саму его возможность в советском человеке истребляли. Какое достоинство, если он должен быть «беззаветно предан»?
Теперь я скажу о том, что появилось в нашей действительности несоветского. Уже два года, как я чувствовала, что что-то готовится, что-то будет происходить. Все более и более настойчиво стали появляться сведения о том, что люди объединяются для того, чтобы сделать что-нибудь хорошее. Тушение пожаров – это все видели. Но есть много такого, что остается невидимым. И этих людей-невидимок, тех, кто помогает больным, организует что-то для сирот, оказывается очень много. И у нас это абсолютно новая вещь. Ни в советское, ни в постсоветское время этого не было. Причем люди, которые для этого соединяются, чаще всего не связаны с церковью, у них не христианская мотивировка. Они просто хотят делать что-то хорошее. И делать вместе. И тем самым, они становятся похожими на своих западных современников и на тех русских, которые считали свою жизнь неполноценною, если чего-то не делали для общего блага, для блага других. И то, что начинается, то, что я вижу сейчас самого нового у нас, – эти объединения людей, которые хотят что-то делать вместе, и, как оказывается, могут делать то, чего не может всесильное государство – как во время пожаров или катастрофы в аэропорту. Здесь кончается пресловутый «русский фатализм».
И на нынешних «снежных» демонстрациях, где, конечно, есть самые разные люди, есть и эта часть, которая иногда себя называет «люди-невидимки». И для меня эти две вещи – желание делать что-то хорошее самим и вместе и выход на «снежную» демонстрацию не с лозунгами «дайте мне то-то или то-то...», а «мы не позволим, чтобы нас оскорбляли» – связаны между собой. Человек, объединяющийся с другими, чтобы кому-то помочь, это уже совсем другой человек, потому что когда он так поступает, возрождается его достоинство. Он, в отличие от циника, не считает, что он последний человек, он не никто – «как все».
И это возрождение достоинства будет, я думаю, потихоньку действовать и расширяться. В разные стороны, изгоняя «постсоветское». Кроме цинизма и фатализма, о которых мы говорили, одним из самых враждебных свойств советского – и в неменьшей степени постсоветского – человека для меня лично всегда была какая-то тяга к грубости, стремление унизить другого. Человек с достоинством этого просто не хочет. Поэтому я думаю, что бороться нужно, например, не с употреблением мата, а за то, чтобы человек пришел в такое состояние, когда ему самому это будет противно и он не позволит ни себе, ни другим пользоваться грязными словами. Так что в этом возрождении достоинства – решение очень многих проблем.
Священник Георгий Кочетков: /.../ Постсоветский человек – это, прежде всего, наследник совершенно разрушенного общества, внутренне не только не свободного, но и бескачественного и, более того, стремящегося к тому, чтобы этих качеств не было. Постсоветский человек сам не знает, чего он хочет, поэтому для него и возможно все бросить и уехать из страны. Цинизм и фатализм, о которых говорила Ольга Александровна, характеризуют не русского, а, как она правильно оговорилась, постсоветского человека. Даже не советского, потому что в советское время были разные периоды. Но это то, к чему пришло советское общество, и то, что пытается поддерживать нынешняя власть.
Но так жить нельзя. Никакое общество, даже никакое «народонаселение» и никакая «территория» так существовать не может. Поэтому многие и говорят: пройдет десять лет – и здесь будет власть китайцев или еще кого-нибудь. И не важно, какую модель выстроить: предполагается, что здесь будет просто пустыня, поскольку русская катастрофа уже так далеко зашла, что возродиться ничто русское и качественное не может.
И вот в последние годы действительно появляются какие-то новые ростки. Меня это поразило в двух проявлениях. Во-первых, когда я увидел, что на оглашение стало приходить очень много молодежи восьмидесятых годов рождения и начала девяностых. Это произошло вдруг, неожиданно и резко, в последние годы. Причем это повторяется из раза в раз, из года в год, из города в город – не только в Москве и Петербурге, но и в областных городах, чуть ли не в районных.
Во-вторых, вдруг появились доброхоты, которые хотят просто помогать. Я редко спускаюсь в метро по обстоятельствам своей жизни*, редко бываю в общественном транспорте и вообще на улице, но все-таки иногда бываю, и не только в паломничествах. И поэтому всякие перемены я чувствую, может быть, острее, чем другие. Несколько лет назад я вышел где-то на площади Курского вокзала, поставил тяжелый чемодан. Тут же подбегает какой-то водитель джипа и говорит: давайте, я Вам поднесу. Он не знает о том, как я себя чувствую, хорошо или плохо, он просто берет и мне помогает.
Эти тенденции действительно вырастают из почвы, причем повсеместно, хотя и немного по-разному. Появились люди, которые не хотят уезжать, у которых нет черного уныния, которые надеются здесь жить сами и хотят, чтобы здесь жили их потомки. Для них Россия не временное пристанище, не перевал. А это уже иное самосознание и самочувствие. Люди действительно хотят жить на этой земле, и поэтому они хотят что-то на ней сделать, а значит, появилась явная тяга к качествам жизни, причем уже не только индивидуальным. Вот это важно!
Так что возникает некая надежда, некое упование на то, что эти живые силы хотя бы просто друг на друга посмотрят и, может быть, начнут общаться. Может быть, выделятся какие-то кристаллы, какие-то лидеры, какие-то люди, которые способны что-то осмысливать. Ведь сейчас это пробуждение практически безлично. Оно интересное, оно живое, оно говорит о том, что под почвой что-то зашевелилось, но чтобы этому вылезти на поверхность, нужны личности.
Если же говорить о преодолении постсоветского синдрома, то, прежде всего, мы должны понимать, что постсоветский синдром – это, на мой взгляд, просто некие миазмы, исходящие от советского «трупа». Простите меня за крайность формулировки, но это трупный запах. Постсоветское общество, постсоветский народ, постсоветская идеология, постсоветская политика, постсоветская экономика – это всё трупный дух. И один из признаков этого мертвецкого состояния – как раз то, что нет лидеров, нет примеров, нет авторитетов, нет общепризнанных иерархий ценностей, качеств, уж про средства я не говорю... А преодолеть эти вещи можно только «усилием Воскресенья»**.
Люди могут возродиться, они могут выйти из этого состояния. Их может исцелить Господь Бог, их может исцелить какое-то настоящее вдохновение. Собственно, что мы делаем на оглашении? По сути только этим и занимаемся. Полтора года мы пытаемся человеку привить эту возможность жить по вдохновению и воодушевлению. И тогда естественно возникает и общение, и братолюбие, и жертвенность, тогда возникают смыслы в достаточном многообразии, возникает творческая позиция, когда эти смыслы могут рождаться творчески, – т.е. возникает все то, что в идеале должно быть в любой нормальной церковной среде.
К сожалению, в нынешней церковной среде этого в принципе нет, и, хуже того, все это не считается церковным. А кем-то это считается чуть ли не антицерковным. Вы все помните примеры, когда священники отказывались причащать наших братьев и сестёр только потому, что они стояли в храме вместе и шли к чаше вместе. Это было достаточным основанием, чтобы отлучать их от причастия: «Почему вы вместе? Все порознь, а вы вместе! Вы с ума сошли! Если вы вместе, значит, вы секта. Если вы собрались дома – вы секта. Если вы читаете Писание – вы секта. Если вы молитесь по-русски – вы секта». И это не вопрос достоинства или недостоинства русского или церковнославянского языка или качества перевода. Это вопрос совсем другой, вопрос возможности жить в соответствии с какими-то представлениями о качествах.
Но живые силы и в церкви, и в обществе есть и их надо собирать. Собирать, конечно, не ради себя, не во имя свое, не для облегчения нашей собственной жизни, а для того, чтобы началась жизнь в нашей стране, чтобы в ней могло родиться общество, чтобы был народ. Тогда будет и государство, и политика, и экономика и все остальное, может быть, сможет встать на свое место...
* Имеется в виду тяжелая форма диабета
** Слова из стихотворения Бориса Пастернака «На Страстной»