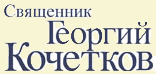Е. Полякова: Отец Георгий, спасибо, что согласились дать это интервью.
Священник Георгий Кочетков: Пожалуйста, давайте действительно попробуем поговорить. Мы тоже в этом заинтересованы, потому что у нас не хватает площадок для обсуждения серьезных, интересных вопросов. Более того, в современной России их просто нет. Понятно, почему их не могло быть в советское время, но это была совсем другая, особая ситуация. Но и сейчас, несмотря на прошедшее двадцатилетие, всё равно ничего подобного не появилось. Есть только какие-то зарождающиеся почечки… Вдруг где-то один-два человека находят какой-то общий интерес – в духовной сфере, гуманитарной, научной или в каком-то экзистенциальном пространстве вообще – и всё, и больше ничего. Но что мне нравится, так это то, что эти люди вдруг потянулись друг к другу, вдруг как бы запеленговали друг друга – это видно по интернету, это видно по тем предложениям, которые сейчас, в самое последнее время, буквально в последние год-два, стали делать и нам, – что люди вдруг захотели объединяться по такому принципу свободного творчества, в том числе и на христианском поле, чего давно не было. Да честно говоря, и сил никаких не было, и возможностей, да и желания. А теперь вот хотя бы желание появилось, ну, а есть ли силы и возможности – поживем-увидим.
«… Там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А они были бы нам полезны» (А.С. Пушкин)
Е. Полякова: Если можно, в начале несколько слов о Преображенском братстве и об институте: как возникла эта идея, и вообще насколько такая форма распространена, насколько в православии приняты такие формы?
Священник Георгий Кочетков: Думаю, что всё, что сейчас возникает в Русской православной церкви и вообще на постсоветском пространстве, в каком-то смысле не очень традиционно, потому что разрыв, образовавшийся в XX веке, настолько серьезен, что говорить о возможности полного восстановления традиции теперь просто нельзя. Поэтому получается так: или мы на этом совершенно новом поле делаем что-то качественное и тогда находим общие нити, связи, преемственность с тем, что когда-то на этой земле было, или мы делаем что-то другое, менее качественное, и тогда находим меньше возможностей для такого соответствия.
Конечно, исторически была своя система образования – и церковная, и светская, гуманитарная, в том числе касающаяся религиозного образования, – были и братства, причем многочисленные, уже начиная с XVI, даже с XV века. Если брать всю Русь вместе – не только Великую, но и Белую, и Малую, и даже Литву, т.е. не только Западную Белоруссию и Западную Украину, говоря в современной терминологии, – если всё это взять вместе как единое пространство, то первые братства появились аж в середине XV века. В XVI веке это уже была очень важная форма организации церковной жизни, правда, преимущественно в связи с тем напряжением, которое возникло по поводу, например, Брестской унии и других подобных унитарных процессов, которые тогда были весьма противоречивыми, да и сейчас остаются неоднозначными. В XVII веке такие братства еще существовали, а потом, уже к XVIII веку, братские движения совершенно выродились как в Русской православной церкви, так и в других православных церквах.
Однако в середине XIX века вдруг происходит их возрождение, начиная с Петербурга. Во второй половине XIX века в Русской церкви уже существует целая система братств, их уже 150. Правда, они часто носили несколько узкофункциональный характер, но всё же не все. Появляются попытки новой организации церковной жизни вообще, что для нашей страны, для нашей традиции имеет огромное значение. В связи с этим я вспоминаю один диалог Пушкина с молодым Хомяковым. Очень интересный, к слову говоря, был диалог, где Хомяков говорил Пушкину о великих преимуществах православия по отношению к западному христианству, а Пушкин ему отвечал, что я, мол, не могу судить о достоинствах и недостатках западного христианства, но я знаю, что в Западной Европе были братские движения, которых нам очень не хватает. И это не случайно происходило всё в то же самое время – в середине тридцатых годов XIX века. А уже в пятидесятых годах рождается первое братство. Действительно, нам не хватало – всегда, традиционно не хватало – этого человеческого измерения. То, что это был поздний Пушкин и молодой Хомяков, само по себе интересный сюжет, но это отдельный разговор.
Так вот, уже в конце XIX века в России развиваются братства, которые по-новому ставят акценты внутрицерковной жизни, по-новому ощущают значение иерархии, пытаются снять тот казенный налет, который, конечно, существовал в «ведомстве православного исповедания» Российской империи. И это сыграло большую роль. Допустим, имя Николая Николаевича Неплюева было широко известно. В России все знали Неплюева: о нем писали все крупнейшие мыслители того времени, о нем так или иначе отзывались и Бердяев, и Булгаков, и Флоренский, и этот список можно продолжать. Известно также, что после Октябрьского переворота 1917 года в церкви бурно возрождается движение братств и сестричеств и Синод впервые дает этому «зеленую улицу». То есть Синод полностью поддержал это движение, потому что увидел, что никакие официальные структуры помочь церкви уже почти не в состоянии. К сожалению, спохватились поздновато. Если бы хоть немножко раньше! Это была такая сила народной поддержки церкви, которая не позволила бы разорить церковь, как и страну, и народ. К сожалению, развить это не успели, так же как не успели с воплощением известных решений Собора 1917-1918 годов. Много было сделано, но воплотить всё это в жизнь просто не успели. Большевики слишком фанатично и слишком быстро, энергично взялись за дело разрушения церкви. Братства стояли до конца, с ними советская власть боролась целенаправленно, репрессии коснулись не только духовенства, но прежде всего всех живых людей, верных Богу и Церкви. И конечно, в первую очередь это были братчики, и среди них были не только священнослужители, но и миряне. Эти движения всегда были еще и мирянскими движениями, хотя не обязательно чисто лаическими, как говорят на западном языке.
Поэтому в каком-то смысле мы продолжатели этой традиции. И конечно, мы ориентируемся и на ту традицию духовного образования, которая была в церкви. Так рождался наш институт. А надо сказать, что он начал свою работу еще в советское время, в середине 1988 года, в июле, когда даже по телефону просто сказать о том, что существует какой-то богословский институт, было нельзя. Хотя Горбачев уже был у власти, но по отношению к церкви еще ничего не изменилось, и вплоть до 1990-го года мы работали подпольно, так сказать, в андеграунде. И только в 1990-м году мы смогли как-то оформить свое существование.
Конечно, открытие института готовилось не один год, это понятно, и это происходило тогда, когда никто еще не думал ни о каком крахе советской коммунистической системы. Я хотел прежде всего соединить то лучшее, что есть в светской системе, с лучшим в системе духовной, как существовавшей когда-то в России, так и существующей сейчас в Западной Европе, как в православии, так и вне его. В православии мы ориентировались на опыт Сен-Серж – Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже – и, понятно, на Свято-Владимирскую семинарию в Америке, под Нью-Йорком. У нас всегда было много друзей и в католическом мире, и из протестантов мы тоже кого-то знали. Мы понимали, какие есть достижения и в западной культуре, в западной церкви в образовательной сфере, и всё это учитывали при создании новой богословской школы.
Надо сказать, что мы с самого начала ориентировались на высшее образование. В то время у нас не было среднего, но все-таки была довольно мощная катехизация, которая для взрослых людей продолжалась примерно год (мы катехизировали только взрослых людей). За все эти годы через нашу систему катехизации прошло, я думаю, больше двадцати тысяч человек. И здесь важно, что катехизация – это год-полтора интенсивного наставления, но не просто обучения. Это не школа, это все-таки наставление на путь жизни. Да, там есть образовательные элементы, но мы называем катехизацию, скорее, научением, а не обучением. Я не знаю, можно ли провести такое различение в западных языках, но, наверное, можно.
Сейчас у нас в институте есть и система среднего образования, и два факультета высшего образования – богословский и религиоведческий (то, что называется Religious Studies). У нас есть и разные формы дополнительного профессионального образования (так называемого, ДПО). Хотя наш институт и небольшой, но по-западному это уже маленький университет. Всего в системе высшего образования у нас учится более 300 человек: на бакалавриате – около двухсот шестидесяти человек на богословском и около пятидесяти человек на не так давно открытом религиоведческом факультете, – плюс есть еще магистратура. Она относительно небольшая, и там учится человек двадцать пять-тридцать. Вот так, если коротко, обстоят дела в институте.
Что же касается Преображенского братства, то мы, конечно, сначала еще не очень хорошо знали традицию братств. Сейчас мы ее уже как-то знаем, ведь мы ее изучаем последние двадцать пять лет. Братство зародилось у нас примерно в то же время, что и институт. Мы ведем его историю от первого большого братского собрания, которое проходило на Преображение 1990-го года. На дворе тогда тоже еще была советская власть, и это большое собрание нескольких сот человек под Москвой мы тоже еще проводили неофициально, под страхом ареста и прочих последствий. Но именно тогда родилось братство. Мы почувствовали это по духу, по тому качеству отношений, которые сложились между участниками той встречи.
С тех пор и существует наше большое Преображенское братство. Оно, конечно, тоже складывалось не один год, и до 1990-го года мы не одно десятилетие собирали людей, готовили, катехизировали – не месяц, не два, а часто больше. Потому люди что приходили, как говорится, с нуля, многие некрещеные, часто из нетрадиционных, неправославных семей. Да и какие традиционные семьи могли быть в то время? Их уже почти и не было. Даже в священнических семьях нелегко было найти настоящую духовную и культурную традицию.
Сейчас наше братство охватывает уже несколько городов, так или иначе во всех основных регионах страны есть члены нашего братства. В некоторых городах существуют самостоятельные братства. Наше Преображенское братство – это такое содружество, состоящее из примерно двадцати пяти малых братств. Малые братства – это братства, объединяющие в среднем примерно до ста человек, не считая детей и молодежи (дети и молодежь – это еще примерно около тысячи человек). Таким образом, всего получается около трех тысяч человек, ну, может быть, немножко побольше. Члены нашего братства есть и в других странах, прежде всего, в СНГ, но и не только. Есть люди, которые живут и в западных странах, хотя, конечно, это единицы – в основном те, кто по каким-то причинам уехал из России. Но хотя они теперь и живут там – кто в Америке, кто в Европе (в основном, конечно, в Европе), – однако вполне естественно, что многие из них не хотят терять связей с нашим братством. Вот такая получается краткая история.
«Мы все дышали этим преступным воздухом»
Е. Полякова: Спасибо. Давайте теперь от исторической перспективы перейдем к современным проблемам. Для Германии сегодня очень серьезная проблема это отношения с церковью как с институтом. И прежде всего то, что было связано с поведением священнослужителей, со всеми этими неприятными скандалами. Так иногда случается, что церковь выглядит не свидетельницей веры, а наоборот, становится соблазном, камнем преткновения. Сотни тысяч людей сейчас уходят из церкви в Германии. Наверное, и в России есть эта проблема отношений с государством, которые для многих являются отталкивающим моментом. Людей можно понять. Вы в одном интервью употребили такое выражение, как «борьба за церковь». Вы не могли бы это объяснить, как Вы это понимаете?
Священник Георгий Кочетков: Для того чтобы объяснить это выражение, нам придется снова вспомнить, что история России XX века – это страшная, трагическая история, это история полного разрушения народа, культуры, страны, церкви, традиции и просто всего живого, что когда-то на этой земле было. И этот процесс никогда не прекращался. Многие народы – и, может быть, в Западной и Центральной Европе Германия больше других – очень и очень пострадали во всех этих катаклизмах XX века, но то, что происходило в России, возможно, было еще страшнее, потому что это было то же самое, но продолжавшееся на протяжении семидесяти пяти лет, в течение которых люди постоянно находились под колпаком страха. И это только те, кто просто смог выжить, кто смог сохранить хоть какую-то форму человеческого существования.
Поэтому борьба за церковь – это борьба и за внешнее, и за внутреннее, ведь разрушено было всё. Я не могу сказать, что сейчас наша страна возродилась, что возродилась церковь, также как и государство. Это всё пока переходные формы, это всё еще некое постсоветское пространство. Это не Россия, но это и не Советский Союз, это именно некое постсоветское пространство, некая территория с некоторым населением, где у всего очень непонятные качества, где всё очень противоречиво. Да, конечно, в нашей стране есть замечательные люди, этого отрицать невозможно. И среди молодежи, и среди интеллигенции – в любой среде можно найти замечательных людей. Но проблема в том, что это всё еще адекватно не оформлено, и не только институционально, но и внутри это всё еще очень нестойко и противоречиво. Что-то люди берут из прошлого, что-то из каких-то других культур или духовных пластов, т.е. пока процветает эклектика, мешанина. И если даже отдельные люди с ней справляются, то в целом обобщать это еще невозможно. Я думаю, что должно пройти какое-то значительное время, прежде чем что-то всерьез оформится.
Но этому историческому процессу надо помочь. А кто это может сделать? Это могут делать только те, кто стремится эти недостающие качества обретать в себе. Начинать надо всегда с себя – это первое правило, существующее в православной церкви. Не надо заканчивать лишь собой, но начинать надо с себя. Если ты ничего не можешь сделать с собой, чем ты поможешь другому? Правда, есть и такой опыт, который выражается афоризмом: уча других, учуся сам. И это тоже правда, и мы это тоже испытываем на себе. Поэтому борьба за церковь – это для нас вопрос принципиальный. Это не только вопрос обретения внутренней и внешней свободы, восстановления иерархии целей и ценностей в человеческой жизни, это не только вопрос обретения здоровых форм взаимоотношений между людьми – здоровых с христианской, с евангельской точки зрения, а не просто общегуманитарной, общечеловеческой. Всё это очень важно, но все-таки это немножко иная задача. Хотя всё, конечно, взаимосвязано, вне всяких сомнений, но мы не отождествляем задачи общечеловеческие и церковные. Поэтому борьба за церковь – это в первую очередь борьба за достойное выражение, воплощение Христова слова.
Мы обязательно должны сделать выводы из всего того, что произошло в XX веке. Они не сделаны не только в том смысле, что не было покаяния народа и церкви за грехи XX века – иногда страшные, ужасные грехи и внутри страны, и в мировом масштабе. То, что происходило в нашей стране в XX веке, имеет мировое значение – это, я думаю, доказывать не нужно, – но поэтому и покаяние должно быть такой же силы. И даже те, кто сам лично не грешил – не сотрудничал с карательными органами, не предавал, не доносил, – те тоже должны каяться, потому что мы все дышали этим преступным, этим страшным воздухом. И иногда мы в себе несем такие вещи, о которых даже не догадываемся, не чувствуем, что они пришли к нам из этой ужасной, больной, зачумленной атмосферы, из атмосферы красной чумы. Поэтому вопрос о борьбе за церковь по-прежнему очень актуален. Я поставил эту задачу перед собой еще в середине семидесятых годов и сформулировал ее в одной из своих статей, опубликованных в Париже, в Вестнике Русского христианского движения в 1979 году – тогда еще, конечно, по отношению к советскому времени, к реалиям советской жизни. Но оказалось, что это ничуть не менее актуально и сейчас, после крушения советской власти, советской системы, именно потому что мы пока еще не возродились, мы только существуем в постсоветском пространстве.
При этом мы понимаем, что в христианстве можно сказать, что один в поле воин. И мы себя ощущаем не какими-то гигантами или гениями – нет, мы прекрасно понимаем, что мы простые люди, – но мы верим в то, что и один в поле воин. Если Господь помогает, если мы верны Богу, если мы верны Церкви, если мы верны друг другу, если мы верны голосу своей совести, то мы можем иметь надежду на это возрождение. И тогда борьба за церковь будет плодотворной.
Е. Полякова: Для западного сознания, конечно, «один в поле воин» звучит как призыв уйти из церкви как раз-таки. Зачем она мне тогда нужна? Люди именно потому и уходят, что им кажется, что это организация – именно как организацию они ее воспринимают, – которая, скорее, мешает им прийти к Богу, чем помогает.
Священник Георгий Кочетков: А почему не мешает? – Да, мешает. Но мы прекрасно понимаем: убери сейчас церковь, даже в том ее незавидном состоянии, в каком она находится у нас – и что будет? Как я уже говорил, нашу церковь сейчас нельзя назвать возрожденной и обновленной, сделавшей все выводы из исторических уроков XX века, но мы всё же понимаем, что стоит убрать сейчас церковь – и начнется полный хаос. Мы знаем, что церковь, какая бы она ни была, все равно дает людям возможность объединяться и собирать хоть какие-то живые силы. Ведь одна из важнейших задач сейчас – это просто собирание живых сил и в обществе, и в церкви. И система образования в этом смысле имеет огромное значение.
Наш институт живет по принципу «лучше меньше, да лучше». Он не стремится быть большим институтом, он стремится быть качественным. И вообще вопрос качества жизни, целостности жизни – вопрос принципиальный. Поэтому для нас принцип «один в поле воин» означает: ты можешь бороться за Божью правду, ты можешь бороться за возрождение народа Божьего. А что есть церковь как не народ Божий? Для нас церковь – это в первую очередь народ Божий, это не формальная организация.
Почему наше братство остается неформальным? Да, в нем есть структуры, которые имеют и государственную регистрацию, и церковное признание, и всё, что нужно. Однако само братство остается неформальным движением, и для нас это важно. Это не значит, что это какая-то тайная организация. Нет, мы не тайный орден. У нас есть сайт, есть газета, где мы достаточно открыто пишем как о своей внешней, так и о своей внутренней жизни. Мы проводим открытые конференции, мы свободны. Нет, неформальная организация – это не значит тайная, это означает, что мы именно движение, в котором свободе и любви можно отдать первое место, отдать преимущество, а это важно. Для людей изголодавшихся, которые часто вообще забыли о том, что такое свобода и любовь, и понимают это зачастую лишь психологизированно или каким-то внешним образом, объективированно, это очень важно.
Поэтому у нас, конечно, эта проблема звучит по-другому. Да, кризис структуры, церковной институции существует. Он, правда, на другом зиждется – не просто на этических проблемах, в его корне лежат другие вопросы, но они все тоже хорошо известны. Именно поэтому мы считаем, что и церковь нуждается в покаянии, и иерархия, и мы об этом говорим вслух, не стесняясь. Мы понимаем, что кого-то это может раздражать, кому-то не нравятся такие разговоры и в государстве, и в обществе, и в церкви. Но что делать? Тем не менее, это необходимо, по свидетельству совести – и не одного-двух человек, а практически всех людей, которые так или иначе обращаются ко Христу, к евангельскому слову, которые входят в церковь, зная все недостатки церковной структуры. Просто надо так стараться устраивать свою жизнь в церкви, чтобы эти недостатки не приносили человеку вреда, чтобы эта негативная составляющая была минимизирована, а позитивная, наоборот, доведена до максимума. Это возможно – трудно, но возможно.
В чем целящая сила христианства
Е. Полякова: Мне хотелось бы попросить Вас немного сказать о России сегодня, о том, как Вы видите сегодняшнюю ситуацию. Такое впечатление, что общество не просто разобщено – это общее место, – но у людей действительно как будто нет общего прошлого. То, что мне бросилось в глаза лично последнее время в частных разговорах, – что мы как будто жили в разных странах, что у нас разное и советское прошлое, и девяностые годы, и люди ни о чем не могут друг с другом договориться. И более того, не могут спокойно об этом говорить, они сразу переходят чуть ли не на крик, на какое-то очень агрессивное отношение. С чем Вы это связываете? Как Вы видите, в чем здесь целящая сила христианства, что-то здесь можно сделать и нужно ли здесь что-то делать?
Священник Георгий Кочетков: Знаете, когда Вы начали задавать этот вопрос, у меня первая ассоциация возникла со строчкой из Мандельштама: «Мы живем, под собою не чуя страны». Когда это было сказано? В тридцатые годы, представляете? Но если тогда уже можно было это сказать, что же говорить сейчас? Естественно, это осталось. Куда это могло уйти?
Е. Полякова: Я всегда это понимала просто как страх.
Священник Георгий Кочетков: Да, но не только. Это когда страна провалилась под ногами, когда не на что опереться. Вы ведь спросили об этом нашем прошлом, но в каком-то смысле тогда не было ни прошлого, ни настоящего, ни будущего – ничего не было. Это был мрак, и мрак отнюдь не божественный. Поэтому не надо удивляться тому, что люди еще не освободились от этих страхов, от недоверия – тотального недоверия, не только к другим, но и к себе, и к Богу, и вообще ко всем и вся. Не надо этому удивляться, потому что по-другому быть не могло, потому что, конечно, советская история – это история русской катастрофы. Здесь можно провести параллель с известным понятием холокоста, и в принципе это то же самое, только в масштабах огромной страны. Это действительно антропологическая катастрофа. У нас сейчас множество людей, просто ментально поврежденных, потому что жить в той стране было нельзя, настолько она была агрессивна внутри себя, хотя и вовне, естественно, тоже. Но люди обычно знают о внешнем, а внутреннего недооценивают, не понимая, что случилось с самой страной, с ее народом и что мы до сих пор пожинаем плоды этого. Поэтому людям до сих пор так трудно здесь жить. Да, слава Богу, сейчас появляется всё больше и больше людей, которые все-таки решаются жить здесь и рассчитывают на то, что и их потомки тоже будут жить на этой земле. Но они хотят достойного существования, они не хотят продолжения того, что было, или даже того, что есть сейчас, и они начинают за что-то бороться. Отсюда и те движения, которые мы начинаем наблюдать в нашей стране в последнее время.
Е. Полякова: А нетерпимость, откуда берется такая нетерпимость друг к другу?
Священник Георгий Кочетков: От того же самого недоверия. Это же культивировалось почти целый век – эта нетерпимость, эта злоба, это беснование, – то, что у Бердяева в «Духах русской революции» было описано уже в 1918 году. Это ведь действительно было беснование, это не просто сумасшествие, не просто временное помутнение рассудка, не просто следствие одного, другого, третьего… первой мировой войны или еще каких-то особых обстоятельств или качеств тех, кто захватил власть в России в 1917 году. Нет, это было настоящее беснование, и оно просто так не проходит. Кто-кто, но христиане знают очень хорошо, что для борьбы с этими вещами нужна определенная сила, что нужно бесогонство, экзорцизмы, но экзорцизмы в первую очередь не как ритуал, а как некое внутреннее просветление, очищение, просвещение в изначальном, глубинном смысле этого слова, который происходит от корня «свет». «Свет», который мы пишем с большой буквы.
Отсюда и агрессивность, и закрытость – это те же самые пережитки, только уже трансформировавшиеся в разные формы страхов, причем на всех уровнях. Отсюда и желание простого потребительства – в том числе и духовного, по отношению к церкви, а не только экономического. Ведь это потребительство существует у нас по отношению к внешним, но оно точно так же существует и внутри страны, и это всё те же болезни, они оттуда же и идут. Это очень важно для понимания ситуации в нашей стране, где только-только вновь зарождается что-то живое, ищущее какие-то связи. Все эти живые клеточки, которые только начинают появляться по всей стране, которые только начинают как-то узнавать друг друга, как-то учиться быть вместе, и не просто на уровне толерантности – это очень внешнее, хотя это тоже нужно, без этого общества не построишь, но все-таки это только внешнее, – а именно на уровне какого-то внутреннего общения, а это задача куда более сложная. Вот эту-то задачу и мы тоже стараемся как-то решать – и через институт, и через братство, и через все свои связи с нашими друзьями внутри страны и вне ее.
«В общении мы приобщаемся, причащаемся Богу и друг другу во Христе по дару Духа Святого»
Е. Полякова: По поводу общения я тоже хотела спросить. Вы всегда подчеркиваете ценность общения и в то же время говорите, что общение – это дар. Дар как нечто, что мы получаем, но в то же время и даем друг другу. Правильно я понимаю?
Священник Георгий Кочетков: Конечно.
Е. Полякова: Но как-то мне хотелось понять этот дар…
Священник Георгий Кочетков: Общение как дар и как ответственность человека?
Е. Полякова: Слово звучит как бы понятно и в то же время непонятно: в чем смысл этого общения, какова его цель даже в общем смысле, даже если речь идет об общении с Богом? То есть к чему всё это, к чему это должно вести?
Священник Георгий Кочетков: Тут я могу говорить только изнутри своего опыта, из многолетнего уже опыта жизни в братстве и в церкви. Общение, на мой взгляд – это прежде всего плод, плод того дара любви и свободы, который мы обретаем во Христе и Духе Святом. Это действительно так. Если в наше время и стоит быть христианином, то только для того чтобы обрести этот дар – дар любви и свободы, – из которого самым естественным образом вытекает и эта общительность, и эта приобщенность и к Богу, и друг ко другу, и ко всем людям – внутренним, близким, единоверным, но и не только, – как и ко всему миру и даже по отношению к природе. Можно, как известно, чувствовать большое родство с Божьим миром, с миром тварным, а уж тем более с людьми…
Да, конечно, общение – это не просто ценность. Общение – это возможность ощущать другого человека, так же как и Бога, не просто близким, а буквально вовлеченным внутрь твоей жизни. Как и возможность ощущать себя вовлеченным внутрь, скажем, жизни божественной или жизни другого человека. И это действительно плод любви. Любовь здесь – это приобщение, «причащение» в древнем смысле слова, когда и та, и другая сторона становятся частью друг друга, обретают глубинное, неповерхностное единство.
Поэтому я провожу существенное различие между общением и контактами. Сейчас слово «контакт» стало очень модным. Многим очень важно быть «в контакте» – в профессиональном, общественном, культурном, психологическом контакте с другими людьми. И с природой люди точно так же стремятся быть в контакте, особенно те, кто увлекается всякими восточными оккультными учениями, для них это принципиально. Но контакт – это только внешнее соприкосновение. Молодежь очень любит «тусоваться», но что такое тусовка? Чем она отличается от общения? Почему тусоваться, с моей точки зрения, не очень хорошо, а быть в общении всегда хорошо? Потому что тусовка – это контакт, и только контакт. И людям это нравится, они с удовольствием вступают в контакт. Ведь иногда и надо вступать, скажем, в деловые контакты – там, где не обязательно быть в общении, где достаточно быть именно в контакте. Но есть такие сферы в жизни – и чем глубже эти сферы лежат по отношению к человеческой природе, к человеческому бытию, тем в большей степени это важно, – где контакты принципиально недостаточны, где нужно входить внутрь, где надо понять человека на глубине и в полноте, в совершенстве. А это уже общение, это не контакт. И поэтому в церкви – в христианстве, в православии, так же, впрочем, как и в католической церкви и в какой-то степени в некоторых протестантских церквах (по крайней мере, многие их деноминации к этому стремятся более или менее сознательно) – именно поэтому мы все называем друг друга братьями и сестрами во Христе, не замазывая существующих трудностей и противоречий, но и не акцентируя их. Для нас это очень важно, потому что для нас очень важна именно эта возможность общения. Допустим, когда я читаю какого-нибудь Ханса Урса фон Бальтазара – и для меня это принципиально важно, – я сразу чувствую, что я вхожу с ним в общение. Или пастора Дитриха Бонхеффера… И мы по этому узнаем, кто имеет Духа Христова – по тому, способен человек на общение или не способен.
В христианстве, как мне кажется, есть две взаимодополняющие характеристики: с одной стороны, общение, а с другой стороны, служение. В общении мы приобщаемся, причащаемся Богу и друг другу во Христе по дару Духа Святого, но мы должны приносить и плоды этого общения, и это то, что мы называем служением. Служение – это не просто дело и не просто послушание; служение – это то, что совершается от избытка сердца. Помните, как об этом говорится в Новом Завете: «От избытка сердца говорят уста» (Мф 12:34)? Это как раз и относится к служению. Но это же относится и к общению, поэтому это две стороны одной медали. И именно поэтому для нас – и в институте, и в братстве – это центральные категории нашей жизни, на которых мы делаем основной акцент.
И поэтому для нас не так важны ритуальные вещи. Мы, конечно, прекрасно понимаем значение внешнего воплощения традиции, в том числе и ритуальной, литургической, аскетической, какой угодно, но всё равно мы спасаемся не формами. «Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор 3:6). И именно эта иерархия ценностей как раз и порушена в современных людях, именно здесь люди и путаются. Когда с ними начинаешь об этом говорить, они тебя прекрасно понимают, поддерживают, я легко нахожу общий язык со всеми живыми людьми практически во всех случаях. Но иногда случается, что какой-нибудь формально неправославный человек, оказывается ближе, чем формально православный, понимаете? Хотя кому-то может показаться, что это нонсенс, что это вообще какое-то искажение веры, но нет, наоборот: так Себя вел Христос, так апостолы шли к людям, так они проповедовали иудеям и эллинам, стремясь к единству всех.
Не путать предание и традицию
Е. Полякова: Можно сказать, что разрыв традиции потому так и страшен, что это общение поколений прекратилось или было разорвано. Именно за семьдесят пять лет. Мне всегда казалось, что страшно именно то, что это три поколения, потому что уже дедушки и бабушки не могут рассказать внукам.
Священник Георгий Кочетков: Да-да, более того, так как из-за страха еще и ни о чем не рассказывали и плюс советская власть выбивала всех более или менее разумных, талантливых людей – происходила просто такая сегрегация, – поэтому всё и пропало. Только сейчас начинают где-то выходить какие-то старые дневники, документы, но буквально по крупицам. Я думаю, если все-таки здесь что-то нарастет, то, может быть, что-то и удастся восстановить, хотя бы в какой-то степени. Но этого может и не случиться: слишком много погибло – и людей, и всего, что было связано с их творчеством, с их опытом, с их культурой и историей.
Е. Полякова: А все-таки вот такой «протестантский» вопрос. Если традиция так важна, как получается, что если она прервана, то очень трудно что-то восстановить? Мне все-таки кажется, что здесь есть какая-то нестыковка. С одной стороны, христианство изначально так зависит от традиции, с другой – ведь когда-то же она должна была возникнуть. Не является ли эта приверженность традиции и даже какое-то ее – с точки зрения, скажем условно, современного западного протестанта – чрезмерное педалирование в католицизме и православии, – не является ли оно чем-то, что отлично от христианства? И иногда кажется, что человек – хороший католик, но как-то не очень христианин. И то же самое бывает с православными людьми. То есть человек очень верен традиции и всему тому, что с ней связано, и очень всерьез к ней относится, но при этом как-то не совсем понятно, причем здесь Христос.
Священник Георгий Кочетков: Вопрос понятен, только я должен сразу сделать одну маленькую ремарку: то же самое относится и к протестантам, и они никак не исключение из этого правила, как и вообще все люди на земле. Везде есть такая опасность – спутать предание и традицию. Это абсолютно непереводимо на западные языки, я это прекрасно понимаю: у них это одно слово, и я не знаю, как Вы будете с этим справляться. Но известно, что в русском языке существует принципиальная разница между тем, когда мы говорим о традиции, и тем, когда мы говорим о предании…
Е. Полякова: Нет, есть слово Überlieferung, и есть Tradition. Хотя Tradition – это немножко другое…
Священник Георгий Кочетков: Для нас это очень важно. Когда я говорил о традиции, я, конечно, имел в виду предание, т.е. духовный опыт, а не традицию, выраженную в формальных требованиях – канонических, литургических, организационных, касающихся церковного устройства, и т. д. Я прекрасно понимаю, что это всё буква. Да, буква должна быть, чтобы для нас родилось и слово, чтобы мы могли это слово воплотить, передать, но опять же «буква убивает, а дух животворит». Традиция в качестве предания – это дух. А для западной системы понятий чаще всего это буква. Поэтому и возникают такого рода проблемы – как исторические, в прошлом, так и современные. Нам в этом смысле чуть-чуть проще, хотя, конечно, эта проблема существует, невозможно это отрицать. Но мы называем это по-другому: обрядоверием, или буквоедством, ну, или традиционализмом, а не традиционностью, или фундаментализмом и т. д. Мы здесь находим какие-то другие системы понятий.
Е. Полякова: Где граница между теми проявлениями религиозности, к которым церковь должна относиться с терпимостью и пониманием (например, преувеличенное внешнее поклонение святыням), и тем, что церковью отвергается как недопустимое и несовместимое с христианством? Ведь со временем эти границы становятся всё менее очевидны. И в разные времена человек, христианин, подвергается разным соблазнам. Есть, например, соблазн исключительно внутренних, приватных отношений с Богом, страх перед всякими внешними проявлениями духовной жизни. Его можно назвать иконоборческим. Он лежит в основе некоторых протестантских течений и, конечно, представляет собой бóльшую опасность для современного христианина, скажем, в той же Германии. Но есть и противоположный соблазн, соблазн приписать чрезмерное значение именно внешнему, формальному богопочитанию, связанному с традицией, обожествление этой традиции. По сути, языческий соблазн.
Священник Георгий Кочетков: Просто всё должно быть на своем месте. Икона должна оставаться иконой – образом, который ведет нас или к первообразу или к первореальности. Мы не должны останавливаться не только на уровне образа, но даже на уровне первообраза, архетипа. Икона должна помогать нам крепко держаться за первореальность. Первообраз и первореальность не одно и то же, поэтому наше богослужение, таинства, догматы, часть аскетического предания – это все-таки образ, это то, что относится к образной сфере жизни. Я это сравниваю, например, с каким-то иероглифом или, допустим, векторами нашей жизни. Да, очень удобно, когда вы, скажем, едете в машине по дороге и видите дорожные знаки: они вам помогают сориентироваться, помогают не попасть в ДТП и т. д. Но ваш путь – это все-таки не только знаки. Вы едете по пути, а знаки вам просто помогают, они вас ориентируют в пространстве и времени. То же самое и здесь: образ помогает нам сориентироваться, не потеряться, не ошибиться, но мы ни в коем случае не можем считать, что это главное в нашей христианской вере и жизни. Поэтому мы не впадаем в иконоборчество, требующее такого абстрактно-спекулятивного отношения к вере и к Богу, происходящее от боящегося всякого воплощения духа. Наоборот, мы верим, что дух воплощенный более совершенен, чем дух невоплощенный. Это очень важный теологумен, который требует особого внимания. И при этом мы, конечно, не хотим, чтобы эти образы становились самоценностью, более того, даже если просто сослаться на букву решений, скажем, Седьмого Вселенского собора, то там прямо сказано: кто будет поклоняться иконе как Богу, тот язычник и отлучается от церкви так же, как и иконоборец. Вы правы: и то, и другое – крайности, и здесь надо, конечно, пройти между Сциллой и Харибдой, как бы трудно это ни было.
«Я бы с удовольствием поговорил с атеистом, но нет их»
Е. Полякова: Еще один вопрос был по поводу атеизма. Складывается впечатление некоторого парадокса в отношении современных людей к религии. Я имею в виду в первую очередь Россию, поскольку, скажем, в Германии ситуация во многом иная. С одной стороны, поражает та легкость, с которой люди признают духовный мир и даже его значительность, причем даже тот его смысл, который конкретно воплощает авторитет церкви. С другой, это признание кажется, по крайней мере, стороннему наблюдателю, удивительно поверхностным. Именно слишком легким, а потому недейственным, т. е. не оказывающим ни малейшего влияния ни на внутренний мир человека, ни на взаимоотношения в обществе. Может, опасность не только в том, чтобы не видеть и не признавать духовный мир, но и в чем-то еще? Может быть, честный атеизм (который очень редко встречается, понятно), является чем-то более, скажем так, близким к общению (и, может быть, последней ступенью к вере), чем такая легкость, такое легкое отношение к духовным вещам, которое, как мне кажется, в нашем обществе в России преобладает?
Священник Георгий Кочетков: Это все-таки постмодерн, когда люди внешне легко соглашаются на всё, внутренне при этом никак не меняясь. Я это воспринимаю именно в контексте постмодерна, но постмодерн в этом смысле не последнее слово. Знаете, я, к сожалению, уже успел соскучиться по атеистам: действительно, нет у нас атеистов. У нас скорее есть язычество, а атеистов нет. Даже те, кто называют себя атеистами, скорее позитивисты. А атеизм – большая, огромная редкость. Я бы с удовольствием поговорил с атеистом, но нет их. Вы знаете хоть одного атеиста?
Е. Полякова: Владимир Владимирович Познер говорит, что он атеист…
Священник Георгий Кочетков: Ну, это он так… Когда-то и Александр Гарриевич Гордон говорил, что он атеист, но он никакой не атеист. Он был у нас в братском доме, перекрестился вместе с нами на икону, и никаких проблем… А вот Теодор Шанин – это другое дело. Но и то он такой специфический атеист, что… В общем, тот еще атеист.
Е. Полякова: А не странно ли это, что в стране, где проповедовался атеизм в течение семидесяти лет, как-то вот с атеизмом хуже всего оказалось?
Священник Георгий Кочетков: Это и понятно: атеизм предполагает некое мужество отрицания, определенный выбор, пусть даже ошибку в выборе, но выбор. А это уже мужественная вещь, это духовный акт, это некое качество. Поэтому атеисту как человеку «холодному» легче стать «горячим», чем «теплохладным». Помните Апокалипсис? «О, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл,… то извергну тебя из уст Моих» (Откр 3:15-16) Вот ведь в чем беда-то. Я бы с радостью встретился и с горячим, и с холодным по отношению к Богу человеком, но эта теплохладность, это безразличие, эта бескачественность – вот что самое страшное. Эта серость, это цветущее мещанство, духовное мещанство… Ведь эта бескачественность – это и никак, и ничто. Конечно, благородный атеизм какого-нибудь буддиста в этом смысле куда симпатичнее. Им мы можем сказать: хорошо, вы ушли от обыденщины, от обычной житейской рутины, но мы с радостью поделимся с вами тем, что Бог нам открыл уже как бы на положительном полюсе. Вы отвергли то, что вас искушает, что вас умерщвляет, что объективирует ваш дух и всю вашу жизнь, но мы с радостью можем с вами поделиться другим. Хотите – принимайте, не хотите – не принимайте. Это нормальный принцип дополнительности, который только и может, по-моему, сейчас работать в области свидетельства, в области миссии церкви. Сейчас нельзя развивать христианскую миссию просто пропагандой, с помощью идеологизированных пропагандистских форм и средств. Это будет та самая поверхностность, та самая обыденность. У Ольги Седаковой есть совершенно замечательная статья на эту тему, она называется «Посредственность как социальная опасность».
Е. Полякова: Многие люди говорят – люди думающие, люди, вышедшие из советской системы, выросшие в ней, да в общем-то и в Германии я слышала такие слова… Это, видимо, общая черта времени вообще. Так вот люди, которые действительно переживают эти вещи по-настоящему, говорят: я не могу верить, я бы очень хотел, но я не могу. Что Вы можете сказать такому человеку?
Священник Георгий Кочетков: Я бы попытался спросить его или, скорее, понять (потому что он вряд ли сможет ответить), почему он не может верить, что ему мешает? Мешают ли ему просто его мелкие интересы, или какой-то внутренний надрыв, или какая-то внутренняя экзистенциальная катастрофа? Тут надо смотреть, потому что ситуации очень разные. Люди сейчас боятся верить потому, что они боятся войти в какую-то формальную систему взаимосвязей, которая бы действительно отнимала у них свободу, личную и внутреннюю, которая бы действительно их не просто стесняла и не просто угнетала, а искажала, извращала их внутреннее существо. Действительно, такого рода страхи существуют. Но не надо бояться, нужно просто сказать людям, что да, вы можете столкнуться с такими опасностями и в церкви, этого нельзя скрывать, но можно, во-первых, и не столкнуться с ними, а во-вторых, даже столкнувшись, можно сделать так, чтобы не потерпеть от этого никакого вреда, т.е., как говорится, обойти эту опасность или преодолеть ее. Так что страхи современных людей понятны, но они больше связаны с тем самым тотальным недоверием, с тем отчуждением, о котором мы уже говорили. Ведь не только же одна Россия пострадала в XX веке! Весь цивилизованный мир был в это вовлечен, просто по-разному. В России это оказалось, может быть, самым страшным вариантом, но страдали-то все. И уж тем более в Германии. Тут даже не нужно много объяснять, что всё это значит. Просто надо понимать, что у всех этих вещей есть последствия, и понимать, откуда они взялись – из той самой бесчеловечной системы. Коммунизм, фашизм – не важно, в XX веке была масса такого рода систем, да и сейчас они есть, конечно.
Поверить там, где поверить невозможно
Е. Полякова: Но может быть, это все-таки проблемы и самой веры, потому что людям кажется, что вера – это некоторый дар, некоторая уверенность, которой у них нет, а у каких-то других людей есть. И им кажется, что им это просто не дали. Если мы вернемся опять к общению как дару или открытости души, к вере как такому состоянию открытости души – Ваше определение, которое мне очень близко,– то ведь эта открытость либо есть, либо нет. И мне кажется, в этой дилемме – «либо есть, либо нет» – многие современные думающие люди оказались пойманы. Они считают, что они не могут верить, тогда как кто-то может, и получается, что они как бы обделены этим даром. Может ли такое быть, и что можно этим людям сказать?
Священник Георгий Кочетков: Прежде всего им можно сказать самую большую и радостную для них вещь: нет такого человека на земле, у которого бы не было дара веры; человек без веры умирает сразу, он не жилец на этой земле, совсем. Другое дело, какая эта вера. Вера может быть истинной и неистинной, глубокой и поверхностной, раздвоенной и целостной, такой и сякой – всё это уже вопрос о том, какая она. Но она есть: ее можно исцелить, ее можно возродить, ее можно раскрыть как дар. Покуда ты человек, а не животное и не камень при дороге, у тебя есть некие духовные качества: есть способность любить и воспринимать любовь другого, а значит, и входить в общение; есть способность стремиться к свободе; есть способность быть открытым. Человек иногда закрывается, просто чувствуя опасность этого мира, но он специально закрывается, специально уничтожает в себе веру и доверие. И нам это легко понять, если мы вспомним, что было в нашей стране в XX веке. Понятно, почему люди в себе это культивировали: просто выжить по-другому было невозможно, ни внутренне, ни внешне. Но люди испытывают подобное давление и в любом месте земного шара, где бы они ни жили и кем бы они ни были, поэтому опасность для веры человека существует везде и всегда.
Человек часто жертвует и любовью, и верой, и свободой своей просто для того, чтобы выжить, для того чтобы сохранить хотя бы элементарные качества своего человеческого существования, своей экзистенции. Но человеку можно об этом сказать и показать на практике: ты не чувствуешь даров веры просто потому, что у тебя нет доверия. Сделай небольшое усилие, откройся немного Богу и ближним поверх всех тех опасностей, всех тех рисков, которые с этим связаны. Я это называю «давать авансы любви и доверия». Я говорю всем нашим братьям и сестрам в братстве, что мы как верующие люди должны прежде всего давать людям авансы любви и доверия, т.е. их любить и доверять им не по их заслугам, не потому что они нам сделали что-то хорошее или собираются что-то такое сделать. Может быть, они ничего хорошего нам не делали, не делают и не собираются делать, но у нас есть возможность эти авансы им давать. И другой человек – он так устроен, что он рано или поздно пытается выйти на взаимность, если только мы это делаем бескорыстно, если мы сами в себе двойного дна не содержим. И человек тогда откликается, в нем зарождается вера, просто потому что ты ему поверил там, где поверить было невозможно.
Вспомним историю Авраама: там же происходило то же самое между Авраамом и Богом! И в людях это существует до сих пор. Вот когда это нарушается, тогда – мрак. Но тогда жизни нет, тогда уж лучше в петлю. Почему такое количество суицидов и всякого рода убийств существует сейчас на белом свете? Именно потому что люди доводят себя до крайности в области доверия к другому, в области веры и любви. Это не абстрактные вещи, это вещи очень конкретные, это наши прямые отношения с каждым, с кем мы встречаемся, т.е. с тем, кто наш ближний, ведь каждый, с кем я встретился, тот мне и ближний. А по отношению к ближним существует та самая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», – и вторая, подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22:37,39). Вот и всё. Это закон духовной жизни всякого человека, и здесь нет исключений. Цивилизованный человек или нецивилизованный, с культурными корнями или без всяких корней. Конечно, кому-то здесь легче, кому-то труднее, это понятно, но тем не менее, это то внутреннее свойство души, которое, оставаясь человеком, нельзя потерять. Если ты человек, то в тебе это есть, а иначе ты просто не человек.
Е. Полякова: Очень часто сталкиваешься с таким представлением, в Германии, например, когда люди считают, что они прекрасно могут общаться и открываться друг другу. И для этого ведь совсем не нужно таких, говоря языком Ницше, экстремальных гипотез, как вечная Жизнь, Воскресение, Бог, Христос, т.е. это всё кажется каким-то маловероятным, мягко говоря. А духовная жизнь, тем не менее, не угасает...
Священник Георгий Кочетков: Просто они очень быстро дойдут до дна этих возможностей. Да, действительно, это есть: есть такой уровень духовной жизни, который доступен всякому человеку просто в силу того, что он – живая икона Бога, что он образ и подобие Божье, и это есть у любого человека, даже у самого отъявленного атеиста. Ведь он все равно человек, он все равно живая икона Бога, хочет он того или нет. И поэтому ему многое доступно. Но он просто резко сужает свои возможности, не веря во Христа, не веря в те глубинные реальности, которые открываются нам во Христе, не веря в Его любовь, в конце концов, не постигая ее тайны, которые и ведут нас к откровению Воскресения и Жизни вечной. Человек тем самым настолько уплощает свою жизнь, что лишает ее важнейших измерений. И это нужно просто человеку показать.
В средневековье иногда считали, что человек без Бога вообще ничего не может. Помните всю эту августиновскую теорию, его спор с Пелагием и т. д.? Пелагий был за абсолютную свободу воли, а Августин за абсолютное предопределение. Но на востоке мы так никогда не мыслили, у нас такого никогда не было, и поэтому нам это труднее. То есть в каком-то смысле нам и здесь повезло, потому что традиция нас оберегает от такого рода выбора, от такого рода проблем, поэтому у нас они так редко встречаются. А на Западе это бывает чаще. Там бывает достаточно общей порядочности, чтобы считать, что у тебя в духовной жизни все хорошо. Если ты действительно добрый, хороший человек, ты можешь помочь другому, ты можешь быть самоотверженным, ты можешь быть честным, то этого как бы достаточно. Но христианин просто не может остановиться на том, чтобы только лишь стать хорошим человеком. Ему мало, ему подавай Царство Небесное…
Толстой лишил народ сопротивляемости
Е. Полякова: Закон или благодать – это старая альтернатива. Но оказалось, что наша благодать нас завела в такой ужас… И именно против этого ведь возражал когда-то Лев Николаевич Толстой, именно это вызвало у него такое неприятие. Получается, что мы как бы всё на духе построили, а на самом-то деле мы скатились так глубоко, как никакой закон бы нам не позволил. Не была ли русская катастрофа следствием нашего слишком большого доверия к духу? Я нарочно это слишком резко формулирую.
Священник Георгий Кочетков: Это совершенно нормальная формулировка, потому что это проблема известная. Это следствие разделения церквей: запад всегда делал акцент на пророчестве, восток – на откровении; запад – на мужестве Креста Христова, восток – на женственности духовных даров. Действительно, это отчасти на нас повлияло, но, правда, и сам Толстой здесь сильно на нас повлиял в эту сторону, он сам в большой степени лишил наш народ сопротивляемости. Он сам причина того, что люди перестали сопротивляться. Ведь непротивление злу, простите, это Толстой! Он больше сделал здесь отрицательного, чем вся традиция до него, которая, конечно, в целом страдала от того, что этой самой внутренней дисциплины нам действительно всегда не хватало, не хватало внутренней оформленности, не хватало мужества, не хватало такого самостояния. Да, в XX веке было множество мучеников, исповедников, святых людей, которые, может быть, совсем не были бы таковыми, если бы не события, связанные с коммунистическим режимом, с воцарением его в стране. Но это выковывалось в них уже в новых условиях, когда нужно было преодолевать в себе и это толстовство, которое, к сожалению, перед революцией, перед событиями 1917-го года сыграло у нас такую роковую роль.
Это как раз и была та самая неоформленность, которая может легко превратиться в безответственность, что часто и случалось. Да, мы действительно не умеем исполнять закон, мы действительно не держим форму, это правда. Но так же и запад, допустим, не умеет входить в глубины духовной жизни, и часто отстает, оставаясь именно на уровне закона и формы. Цивилизации это на плюс, но внутренней культуре – на минус. Мы можем здесь легко рассуждать типологически, потому что известно, каковы отрицательные последствия разделения церквей, почему мы и стремимся эти последствия преодолеть. Мы ведь знаем, к чему стремимся: не просто к какому-то внешнему политическому единству Западной церкви и Восточных церквей, нет, мы прекрасно понимаем, что за этим стоит. И папа Римский, который говорил, что нужно дышать двумя легкими – повторяя, впрочем, слова известного русского мыслителя, – говорил не пустые слова. Это то, что можно поддержать, за это, как говорится, можно проголосовать двумя руками.
Настоящая свобода идет изнутри сердца, как и любовь
Е. Полякова: Может быть, еще самый последний вопрос. Мне просто хочется более развернуто услышать, почему Вы говорите о свободе? Это тоже неочевидный момент для многих. Многим кажется, что как раз путь христианства – это путь самоограничения и подчинения, причем подчинения не церковным властям – это слишком просто, – но некоторой предзаданной цели: Бог хочет для нас чего-то, и мы должны к этому прийти. Какая же это свобода? В чем свобода?
Священник Георгий Кочетков: Это, конечно, фундаментальнейший вопрос, с этого можно начинать разговор заново. Но я постараюсь ответить одной фразой, а если не получится, мы это сотрем. Я, может быть, потому так много об этом говорил, что в ХХ веке в слишком большой степени была попрана именно свобода человека. И слишком серьезные последствия этого мы ощущаем сегодня в своей жизни. Люди уже даже забыли, что такое свобода, они постоянно путают свободу с произволом, просто с неограниченностью своих возможностей. Но это ведь еще не свобода, то есть это свобода лишь внешняя, объективированная. А настоящая свобода прежде всего идет изнутри сердца, как и любовь. Ведь существуют все-таки замечательные слова Писания: «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор 3:17). Умаление свободы – это умаление духа, а умаление духа – это умаление смысла. Эти вещи оказались настолько тесно связаны, что мы сами же страдаем от всякой бессмыслицы – везде, в том числе и в церкви, – мы сами страдаем от всякого недостатка свободы, потому что многие люди сегодня вообще не привыкли мыслить и говорить в категориях свободы. Но, правда, это действительно не очень традиционно, об этом и в истории мало говорили. И об этом трудно говорить, так же как трудно говорить о любви, кто спорит. Качественно говорить на эти темы трудно, очень трудно. О них очень легко разглагольствовать, но трудно говорить всерьез.
Поэтому возрождение человека, возрождение общества, возрождение церкви не может не быть связано с возрождением свободы. Это невозможно просто потому, что полнота духа и смысла, полнота любви и свободы – это главное, на чем нужно сейчас делать акцент. Я снова возвращаюсь к той иерархии ценностей и целей, которую должен вспомнить современный человек, и здесь уже не важно, западный или восточный. Это уже наша общая задача.
Е. Полякова: Огромное спасибо, отец Георгий.
Беседовала Екатерина Полякова, доктор философских наук, приват-доцент Грайфсвальдского университета, доцент РГГУ.